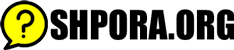С. Бочаров
К Аверинцеву рано установилось отношение не просто как к новому автору и ученому, но как к явлению. Явлением он и был уже тогда, в середине 60-х. Он встал тогда в ряд необыкновенных явлений десятилетия, и ряд этот многое предвозвещал в последовавшей нашей истории общей, не только литературной: Солженицын, Бахтин, Аверинцев. Они один за другим явились тогда из уже не подозревавшихся нами скрытых русских глубин. Поминая его в печальные дни, И. Роднянская вспомнила, как известный историк недавно ей говорил, что статья Аверинцева в “Вопросах литературы” об Афинах и Иерусалиме тогда на него повлияла не меньше, чем “Один день Ивана Денисовича”. “Вопросы литературы” имеют сегодня свои особые основания вспомнить Аверинцева: в “Вопросах литературы” прежде всего и состоялось в 60-е годы его явление: статьи не только о греческом и библейском, но и о Шпенглере, Маритене, Юнге. Греческое, библейское и философский двадцатый век.
“Не помню кто, не то Аверинцев, не то Аристотель сказал...” — можно было прочитать у Венедикта Ерофеева в начале 70-х. Это был результат за неполное первое десятилетие. Результат был тот, что самое имя стало ценным, имя стало звуком культурного языка. К этому времени наша история еще раз повернулась, и Аверинцев оказался на этом повороте действующим лицом. С осени 1969-го начались его лекции на истфаке, на которые сбегался московский интеллигентный люд, как когда-то, наверное, на Владимира Соловьева в Соляном городке (официально это были всего лишь спецкурсы для студентов истфака). Три зимних цикла подряд — Средние века, античность, Византия. Это было его явление личное и устное, с той позой на кафедре и со звуком голоса, о котором Н. В. Брагинская написала, что в нем было больше несоветского, чем в любом диссидентстве. Достоевский накануне похорон Некрасова всю ночь читал его стихи. Я в поминальные дни раскопал в бумажных залежах и читал не известные печатные тексты Аверинцева, а свои бумаги, где я пытался тогда записывать те лекции. Кстати, они не были потом исчерпаны в статьях, так что нашлись бы у кого-то хорошие записи и издать бы их. Записывали многие, а магнитофонные записи тогда еще, кажется, не вошли в обычай. Вот как замечательно, что расшифрованы и напечатаны магнитофонные записи соравного друга Сергея Сергеевича, Александра Викторовича Михайлова, его лекций в консерватории.
В разных своих интервью С. С. любил называть себя кабинетным человеком. На самом деле он был человек публичный — не только потому, что стал на виду, хотел того или не хотел, а потому, что был таким по призванию, любил аудиторию и искал аудиторию, был к ней обращен и, может быть, чувствовал себя человеком миссии. Поэтому, видимо, случилось естественно, хотя многие и удивлялись, что, когда пришло время гражданской публичной деятельности, кабинетный человек пошел в Верховный Совет. Там он как будто прямо участвовал единственный раз при подготовке закона о свободе совести, но совершил поступок, о котором надо бы не забыть, — не встал, когда, кто помнит, против Сахарова, сказавшего об Афганистане как о государственном преступлении, вышел “афганец” Червонописский и поднял зал словами: “Держава, Родина, Коммунизм!”, — и зал поднялся, кроме двоих в первом ряду — это были Аверинцев и знаменитый штангист Юрий Власов, с которым они на короткое время там подружились (болезненный хрупкий филолог в шапке зимой с завязанными ушами с могучим штангистом!), и у Власова было очень острое там выступление. У С. С. такого там выступления не было, но он вместе с Власовым не встал, когда встал весь зал. И потом рассказывал, как трудно было не встать.
А в печати он тогда пошел в публицистику, и она даже стала чуть ли не его главным жанром. Но и болезнь пришла тогда, на повороте судьбы, который ведь не случайно, наверное, совпал с поворотом судьбы нашей общей: в 91-м С. С. заболел. И профессиональная филологическая работа его, в общем, с тех пор ослабела. Это было похоже на жертву, и научную, и человеческую, которую он принес своей современности. Но, наверное, это неточно, что деятельность ослабела, — она менялась, и стало казаться, что словно его меньше с нами, харизма его ослабела. Мало кто заметил его философские миниатюры в одном альманахе середины 90-х (“Падающий Зиккурат”, 1995), в их числе — “К дефиниции человека” как существа верующего: как мы дружим и любим. так, что мы поверили в этого человека, а не только его узнали, поверили сверх того, что узнали, потому что знать мы можем всегда лишь “отчасти”, как сказал Апостол Павел, а принять человека, чтобы любить, надо в целом, а это значит, в него поверить сверх всякого знания, чтобы он стал единственным для тебя человеком. Аверинцевские “опавшие листья”, новая у него форма мысли, малая христианская проза — сколько их еще у него осталось (в альманахе лишь два таких листочка — “Выбранные места из дневника читателя”)?
Возможно вы искали - Реферат: О специфике фантастического в "Мастере и Маргарите"
Что же до публицистики, то появились такие его выступления, как “Моя ностальгия” в “Новом мире” в 96-м, где он на своих личных и на общих примерах сказал о мировом состоянии, наступившем на наших глазах, и провел историческую границу, когда де Голль, и студенческая революция 1968-го, и даже хиппи еще что-то значили в мире, а с этой границы начала терять значение и большая кровь. Обозначил границу того состояния, какое назвали постмодернизмом. Похоже, что этот ход истории и на самом аналитике отозвался: он рассказывал при последней встрече — а было это
29 апреля 2003 года, за четыре дня до последнего сразившего его удара, — что в Вене в его университете студенты пишут доносы на профессоров, впрочем, легализованные характеристики, по которым выводится рейтинг профессора, — результат той самой студенческой революции, — так вот, он прочитал, что одна студентка о нем написала, — два недостатка: 1) совершенно не понимает значения феминистского движения и 2) часто говорит непонятно.
Тогда, в тех давних лекциях на истфаке (воспоминание все возвращается к ним), он открывал нам миры и рассказал, конечно, много интересного. Был просветителем поколений в основном старше его. Но главным было даже не то, что мы узнавали, а тот язык, который мы слышали. Язык менялся в эпоху “оттепели”, но и новый либеральный язык оставался языком советским. От Аверинцева мы услышали совсем другой язык, в принципе другой, и именно он, а не новые знания, менял аудитории голову. Например, когда на второй лекции он начал говорить о том, что значило для средневековой и для всей философии то, как Господь представился Моисею: Аз есмь Сущий, — где “есмь” не связка, а главное слово. О бытии и реальности: вещь причастна благу не поскольку она есть что-то, а поскольку она есть; вещь имеет бытиё и держит его при себе, предмет имеет реальность, чтобы предъявить ее нам. Осенью 69-го звучало это с кафедры. Или же о библейском и греческом человеке — об Афинах и Иерусалиме, то самое, уже поминавшееся, — что библейскому человеку не стыдно вопить и кричать о боли, забывая о внешнем достоинстве, как невозможно человеку греческому: “не осанка, а боль, не жест, а трепет”. Это были научные наблюдения специалиста, но ведь не только — по простоте своей, сразу понятной и нам, нынешним людям, просто как людям, — а между тем такими простыми чертами очерчивались духовные эпохи и основные духовные принципы, направлявшие жизнь человечества от тех до наших времен. Историческое и вечное. Дар так увидеть и так сказать, и разве только в своей специальной области? В частном разговоре, спасибо, записанном нам М. Л. Гаспаровым, сказать о Пушкине так, как бьются и не находят своих слов присяжные пушкинисты, — о его “мгновенной исключительности” во всей, не только русской культуре“Пушкин стоит на переломе отношения к античности как к образцу и как к истории, отсюда его мгновенная исключительность. Такова же и веймарская классика”.
Это ведь в самую точку спора о Пушкине, в каком находится пушкинский миф (начиная с Гоголя, 1834: “явление чрезвычайное... единственное явление русского духа”) с научным пушкиноведением, оформившимся в 20-е годы именно в полемике с пушкинским мифом (ценность Пушкина велика, но “вовсе не исключительна”, и с историко-литературной точки зрения он “только один из многих” в своей эпохе, — Тынянов, 1926). Два слова Аверинцева поддерживают пушкинский миф, но ведь при этом не остаются лишь риторическим восклицанием, а имеют кратчайшее филологическое, научное обоснование по близкому ему как филологу-классику признаку отношения Пушкина к античности (о веймарской классике в тех же пушкинских связях — в работах А. В. Михайлова). Но — кратчайшее обоснование, конгениальное пушкинскому способу высказывания в двух словах об огромных вещах. Ведь недаром же это сближение по эпитету с пушкинским словом о случае как мгновенном орудии провидения. Что это значит — “мгновенная исключительность”? Это значит, что Пушкин хоть и явился, конечно, результатом какой-то литературной эволюции, но не простым “закономерным”, так сказать, ее результатом, а вспышкой, солнечным взрывом, то есть по-пушкински, в ходе литературных закономерностей он возник как счастливый случай.
Кто был Аверинцев? Он был филолог в той полноте объема этого слова, который он же единственный обосновал в статье “Филология” в 7-м томе “Краткой литературной энциклопедии”. В эпоху физиков и лириков, когда он начинал, филология проходила по части “лирики” и была, по слову поэта, “в загоне”; он поставил ее высоко. Перемещение ценностей в общем сознании происходило в эпоху Аверинцева и прямо благодаря ему: филолог выходил на положение важного человека современности, нужнейшего современности человека; в постсоветское новое время он это значение начал терять и продолжает его терять сейчас, после смерти Аверинцева, однако, как помнят слышавшие его, он говорил, что “история не кончается; она кончалась уже много раз”, и, возможно и вероятно, роль филолога в русской истории не исчерпана.
Похожий материал - Реферат: Тайна человека в романе "Бедные люди"
Филолог Аверинцев оставил нам свой энциклопедический словарь не просто важнейших понятий — важнейших слов нашей жизни (“любовь”, “спасение”, “чудо”, “судьба” и мн. др., см. такой аверинцевский словарь — Киев: София — Логос, 2001). Филолог, заговоривший о “высшей математике гуманитарных наук” как об уровне, мало еще им доступном. Филолог и ритор в старинном смысле этого слова, человек непростого на восприятие, затрудненного и именно в этой своеобразной затрудненности красивого устного слова, которое если кто не слышал, а только Аверинцева читал, узнал его недостаточно. Помню, как он говорил о своих детях: “детки мои — существа словесные”; человеческую “словесность” он любил и горевал о наблюдаемом вокруг ее оскудении, например об утрате вкуса к сложному предложению, и объявлял борьбу за точку с запятой как знак сложного синтаксиса.
Этот филолог был светский проповедник, в выступлениях на разные темы походя формулировавший уроки поведения, когда говорил, например, о том, что у дьявола две руки и он всегда предлагает нам ложный выбор, который не надо делать, — скажем, между либерализмом и патриотизмом, какой нам нынешними идейными сюжетами постоянно навязывается. Небожитель Аверинцев в этих сюжетах достаточно трезво ориентировался и давал свои ответы на актуальные вызовы, когда называл себя средиземноморским почвенником. Эта “почва” обнимала и Афины, и Иерусалим, вновь те самые, как недавно заметила О. А. Седакова, вспоминая это автоопределение. Но ведь это был не только объем интересов, это был и ответ на идеологическую злобу дня. Да, вот такая обширная “почва”, но не интеллигентская беспочвенность (идейность и беспочвенность — два определения русской интеллигенции, по Г. П. Федотову) — почва.
Память об Аверинцеве вновь возвращает к тем давним лекциям как к историческому — можно это сказать без пафоса — событию. Это был 69—70-й год, перепад эпох, и лекции на истфаке его обозначили. У нас ведь тоже только что был перед этим свой 68-й, с Чехословакией и кое-чем прочим. Это был конец знаменитого шестидесятничества, и лекции Аверинцева происходили уже по ту сторону. Это был уже второй исторический перепад после середины 50-х. Перепад эпох и смена интересов. Статьи в печати одно, а такие систематические устные выступления как общественное событие — другое. Статьи уже были в 60-е годы, и четвертый том “Философской энциклопедии” с аверинцевскими “Православием” и “Протестантизмом” в 1967-м уже появился, но такие лекции, по ощущению, не могли тогда еще состояться и столько значить, да и просто быть так услышаны — слух еще не был приготовлен. Лекциями Аверинцева мы вступали в другую эпоху, более глухую, но и более сложную. Ее назовут эпохой застоя, только эта эпоха застоя идейно была куда сложнее и богаче гражданских 60-х. Например, вставали две такие темы, которые не очень, не так звучали раньше, как темы религиозная и национальная. Историческим временем Аверинцева и стало это глухое и сложное время. Субъективное впечатление, но для меня тогда три события обозначили исторический перепад. Такого разного тона и стиля события, как “Москва — Петушки”, зазвучавший голос Высоцкого и лекции Аверинцева. Все три явления на перепаде 60—70-х. Столь разные голоса озвучили новое время, и среди них аверинцевский — рискну сказать по памятной аналогии — филологический тенор эпохи. Трагическая ирония есть в ахматовской формуле, но она окрашивает главное — размер человека, дающего свое имя эпохе.
Сергей Сергеевич Аверинцев со своей филологией, если представить себе его путь, который весь теперь перед нами, был вплетен в пережитую нами большую историю и был в ней действующим лицом. Кабинетный человек был человеком эпохи.