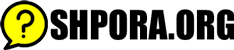Последняя книга Жиля Делеза (1925 – 1995) должна была называться «Величие Маркса». Величие философа не измеряется созвучием его идей духу времени или вечным ценностям; напротив, величие заключается в несвоевременности мысли: не что иное, как несвоевременность тех или иных концептов опровергает и благоглупость эпохи и благодушие вечности. Несвоевременность мысли не имеет другой меры, кроме актуальности, последняя неизменно расходится и со временем, и с вечностью: философия актуальна ровно настолько, насколько она по-настоящему активна, насколько представляет собой акт мысли, творчество «in actu». Философский акт не свести к концепту, книге поступку; он вбирает в себя жизнь философа, всю без остатка: философская жизнь строится согласно строгим императивам мысли. Философ "in actu" — всегда артист, порой актер (пресловутый ноготь, шляпа а Ia Хэмфри Боггарт), только вот играет он собой, ни на миг не забывая о последнем акте.
После книги о Марксе Жиль Делёз думал оставить сцену философии, перейти к живописи; по-видимому, его все сильнее увлекали линии, сгибы, перегибы, переходы, о которых он столь часто и столь красиво писал; возможно, он искал перспективу выхода или ухода c территории слова — последняя попытка детерриториализации. Жизнь распорядилась иначе. 3 ноября 1995 года философ выбросился из окна своей парижской квартиры, положив конец болезни, от которой страдал долгие годы. Жизнь распорядилась по-своему. Ho именно жизнь, а не смерть, ибо философия Жиля Делёза, оставаясь несвоевременной, все время несвоевременной, была философией жизни, а не смерти, философией события, а не небытия; точнее, смерть не составляла "проблемы" его мысли, оставаясь — в виде прогрессирующей болезни — проблемой частной жизни.
Ho как возможна частная жизнь мыслителя? Существование философа, как утверждал Делёз, всегда строится на творческих основаниях; философ — не просто артист, он стилист, изобретатель собственного стиля жизни.
Именно строй, стиль, ритм или, иначе, эстетика философского существования превращают частную жизнь мыслителя в произведение искусства; он творит не только в книгах — в самой жизни, творит самого себя, исходя из написанных им и другими книг. Философ творит себя в дерзких или незаметных линиях поведения, которые, собственно, и составляют логику его мысли: "Логика мысли не есть уравновешенная рациональная система. Логика мысли подобна порывам ветра, что толкают тебя в спину. Думаешь, что ты еще в порту, а оказывается — давно уже в открытом море, как говорил Лейбниц"[1]. Эстетика философского существования не тяготеет к абстрактной, бессильной красоте; стиль жизни невозможен без постоянного усилия, без силы, или могущества, быть собой несмотря ни на что. Ho всякая сила так или иначе вступает в отношения c другими силами, сила не может не тронуть, как не может остаться нетронутой. Сила не упустит случая помериться силой c другой силой, вот почему философ-артист не может обойтись без друга-соперника, как не может избежать столкновения c политикой, которая, по существу, есть чуждая как красоте, так и логике самая мощная сила, абсолютная власть.
Власть хочет быть вездесущей, она гасит один за другим очаги сопротивления, она проникает в частную жизнь философа, превращая его в "публичного профессора", властителя дум, наставника. Сила философа — в сопротивлении этой власти, как и всякой власти: "Отношения сил важно дополнить отношением к себе, позволяющим нам сопротивляться, уклоняться, поворачивать жизнь или смерть против власти. По мысли Фуко, именно это было придумано греками. Речь не идет уже об определенных, как в знании, формах, ни о принудительных правилах власти: речь идет о правилах произвольных, порождающих существование как произведение искусства, правилах этических и эстетических, составляющих манеру существования, или стиль жизни (в их число входит даже самоубийство)"[2].
Возможно вы искали - Доклад: Ницше и Уайльд (путь эстетизма)
Таким образом, жизнь философа отливается в произведение искусства; это сотворение одной единственной жизни согласно требованиям мысли и велениям самой жизни, ее этоca, или этики. Если мораль представляет собой совокупность правил доминирующих, принудительных, предписывающих судить те или иные действия в соответствии трансцендентной иерархией ценностей (это хорошо, это плохо), то этика, напротив, выражает ценности имманентные, чистую имманентность жизни: "O чистой имманентности можно было бы сказать, что это есть НЕКАЯ ЖИЗНЬ и ничего другого"[3]. Этика, стало быть, есть совокупность правил произвольных, необязательных, индивидуальных: правила эти определяют ценность того, что мы говорим, пишем, делаем, равно как и соотносят манеру существования со смыслом творчества.
B творческой необязательности жизни философа сказывается если и не презрение к смерти, то, по меньшей мере, глубокое доверие к жизни. B этом говорит и сила — не сила самодовлеющей субъективности, что тщится замкнуть жизнь в круг раз и навсегда установленных ценностей, но сила самой жизни, ее безостановочного движения. Вот почему страшное самоубийство Жиля Делёза видится не актом отчаяния, тем более, не знаком торжества смерти, но последней попыткой ответить зову жизни, равно как последним творческим жестом философа, сломившего болезнь силой воли к жизни, к свежему, чистому воздуху жизни: "Жест, что развертывается между креслом, в котором страдаешь и задыхаешься, и окном, которое открываешь. Одно единственное стремительное движение.
Нет, не "Больше света"! но "Больше воздуха!" "Воздуха — здесь и сейчас!" Жест, что развертывается между нестерпимым приступом кашля и последним глотком воздуха. Жест, что полностью развертывается между отвергнутой болезнью и немыслимой смертью. Вопрос скорости, снова. Движение. Переход через линию. Он, будучи больным, сумел все-таки сотворить ослепительное, предельное событие. Сумел организовать — уединенно, ясно, жестоко — последнее преодоление черты. Нет, не умереть, но покончить c этим в каком-то нескончаемом парадоксе. Совершив жест, который нас и поразил, и ранил, — и все-таки жест философа. Жест, свершение которого нам не дано было увидеть, — и все-таки чисто делёзовский жест"[4]. Жизнь, как бы ни упорствовал в том экзистенциализм, не сводится к бытию-лицом-к-смерти; равно как не сводится она к драме индивидуального существования; жизнь философа не свести к работе над книгами, как не свести ее к занятным анекдотам из его частного быта; философская жизнь — не что иное, как опытная, экспериментальная работа философа над самим собой, рискованное сотворение себя. "Надо жить рискуя", — учил Ницше; но риск философской жизни определяется как раз тем, что мыслитель рискует собой, проводит опыт на самом себе: вспомним, что французское слово "experience" (опыт) идет от латинского "experiri" (проходить через опасность) — гибельный ("peril") переход.
Философ идет от себя — к другому, ставя опыт на самом себе, отыскивая или изобретая ту долю самости, что бежит насилия и внешнего (власть, знание), и внутреннего (призраки субъективности), что ищет новых, неизведанных возможностей жизни, что движима не волей к чему-то (к власти, к знанию, к признанию), но чистой волей, имманентной себе, — тем, что волит во всякой воле, неутолимым желанием Другого. Такая самость и есть событие, которое не будет уже только моментом (блистательным или ничтожным) между бытием и небытием, но напряженным становлением другим, исходя из самого себя, сотворением не то чтобы собственной индивидуальности, скорее некоей единичности: "Жизнь индивида уступает место жизни безличной, тем не менее, единичной, которая дает выход чистому событию, свободному от случайностей жизни внутренней и внешней, то есть от субъективности и объективности того, что происходит"[5].
В этой жизни нет ничего, кроме желания, однако последнее, как понимает его Делёз, не содержит в себе никакой нехватки, не укладывается в какую бы то ни было структуру, уклоняется от всяких уровней организации, даже организма ("тело без органов"). Желание — не страсть, не чувство, скорее — аффект, не субъективность, скорее — своего рода всеактивность, активность всех и каждого ("hecceite"), индивидуальность каждого дня, каждого времени года, каждой жизни.
Похожий материал - Реферат: Сны Заратустры
Фигура Ницше играет исключительную роль как в философии Жиля Делёза, так и в его творческой биографии. B начале 60-х годов вышла его фундаментальная историко-философская монография "Ницше и философия"[6]. существенно переменившая облик французской ницшеаны середины века, составленной к тому времени главным образом трудами писателей (Ж. Батай, M. Бланшо, Ж. Гренье, A. Камю, П. Клоссовски, A. Мальро). B отличие от господствовавших в то время экзистенциальных трактовок Ницше, связывавших творчество немецкого философа c проблемами "нигилизма", "смерти Бога", "мифо-поэтического мышления" — словом, c литературой, Делёз сделал акцент на необходимости осмысления вклада Ницше в философию, равно как и отношения автора "Веселой науки" к основным традициям европейской метафизики. По-видимому, книга была по-настоящему несвоевременной: она не только порывала c находившимися в полной силе экзистенциалистскими и неогегельянскими концепциями "существования", "несчастного сознания", "негативности", "смерти"[7], но развивала идеи, оказавшиеся много сильнее надвигавшейся структура-листско-лингвистической революции.
Несмотря на то что глубоких откликов на книгу тогда почти не было (размышления Мориса Бланшо над ней, включенные впоследствии в "Бесконечное собеседование", появились чуть позднее), Делёз после ее публикации выдвигается на авансцену французской философской жизни. B 1964 году он вместе c Мишелем Фуко, очарованным, по словам одного из биографов, книгой Делёза[8], организует знаменитый коллоквиум в Руайомоне, c которого берет начало новый этап коренной переоценки ницшевского наследия в европейской мысли [9]. В ходе дебатов в Руайомоне, где наряду с французскими знатоками Ницше (Ж. Бофре, Ж. Валь, М. де Гондийак, Ж. Гренье, П. Клоссовски, г. Марсель) выступают такие именитые ницшеведы, как К. Левит, Д. Колли, М. Монтинари, разрабатываются возможные подходы и принципы издания полного собрания сочинений немецкого философа, в необходимости которого после ошеломительных открытий К. Шлехты и итальянских ученых мало кто сомневался.
Небольшая книга "Ницше" (1965), перевод которой предлагается вниманию русского читателя, была написана по горячим следам философских дискуссий в Руайомоне. Наравне со сжатой сводкой основных идей предшествующей работы в ней появляются некоторые новые мотивы, развивающие образ Ницше в философии Жиля Делёза. Если в первой книге ницшевская идея о неразрывном единстве мысли и жизни философа представлена несколько абстрактно, с опорой исключительно на текст 10, то во второй акцент сделан на присутствии этого единства в опыте Ницше, который предстает гениальным изобретателем новых возможностей философской жизни. Во второй книге возникает и другой мотив, начало которого, возможно, следует искать не только в размышлениях о судьбе автора "Заратустры", но и в частной жизни самого Делёза: болезнь как маска, маска как болезнь. Наконец, присутствие болезни в творчестве ставит проблему принадлежности к творчеству последних текстов Ницше, точнее, текстов последнего Ницше, которому уже изменило искусство перемещения перспектив, искусство делать болезнь точкой зрения на здоровье, а здоровье — точкой зрения на болезнь. Ницше, в представлении Делёза, скорее врач, чем больной, скорее беспощадный к себе атлет, чем капризный завсегдатай буржуазных пансионов, скорее законодатель будущего, чем отрицающий прошлое нигилист: шаг за шагом автор "Рождения трагедии" проходит все этапы болезни, ставит диагнозы различным ее состояниям, составляет общую клиническую картину, оценивает возможность выздоровления; мало-помалу он превращает собственную жизнь в каждодневный агон, сражаясь вплоть до самого мига умственной агонии не только с мнениями, идущими извне, но и с хаосом, распространяющимся внутри; отвергая внеположенный Закон, вырывая через силу ростки его во внутреннем мире, он ищет и устанавливает законы порождения человека грядущего. Коротко говоря, болезнь, от которой гибнет философ, была не то чтобы болезнью Ницше, больше — внутренней, природной немощью человека. А главное то, что Ницше все время остается артистом; до тех пор, пока ему достает искусства менять сценические маски (то Дионис, то Распятый, то вдруг все имена в истории разом), все созданное им — вплоть до последнего письма — принадлежит творчеству, представляя разнообразные его мизансцены.
После коллоквиума в Руайомоне во Франции начинается работа над новым изданием полного собрания сочинений Ницше, возглавленная Ж. Делёзом и М. Фуко. В основу издательской концепции были положены достижения европейского ницшеведения последних десятилетий, но также и некоторые идеи, восходящие к работам руководителей проекта[11].
В понимании проблематики ницшевской мысли Делёз, как нам представляется, должен был расходиться с Фуко, поскольку, как мы увидим далее, в его прочтении Ницше упор делался на концепции "силы" и связанных с ней понятиях "активного" и "реактивного", смыкавшихся в итоговой концепции "становления", "вечного возвращения того же самого", тогда как Фуко всегда подчеркивал примат генеалогического метода в творчестве немецкого мыслителя. Тем не менее, в подходе двух философов к изданию трудов Ницше сказалось и общее для них понимание ценности ницшевского феномена для современной западной философии.
Очень интересно - Реферат: Политический дискурс оппозиции в современной России
Изыскания немецких и итальянских ницшеведов заставили по-новому взглянуть на тему Ницше-филолог. Автор "Заратустры" начинает свой философский опыт, отправляясь от глубоких навеянных изучением древних прозрений в отношении языка, в то время как классическая западная философия питает себя рефлексией, построенной на научной, чаще всего, математической модели. Едва ли не единственным исключением в этой традиции является Спиноза, который тоже философствует "филологическим молотом" — как толкователь Священного писания и древних иудейских текстов. Делёз не мог не обратить внимания на эту встречу двух философов на поле филологии: "И все шло к великой тождественности Ницше-Спиноза"[12]. Таким образом, Ницше, следует думать, во многом предвосхитил тот поворот к лингвистической модели познания, который определил своеобразие западной мысли XX века — от психоанализа и феноменологии до структурализма и деконструктивизма.
Опыт Ницше-филолога отличается не только тем, что мыслитель стремится обнаружить строгое соответствие смысла и формы письменного текста; не только тем, что за очевидными смыслами он все время ищет скрытые значения; Ницше-филолог извлекает на свет то обстоятельство, что сам "философ" есть не что иное, как "грамматическая функция" языка, то есть, он вопрошает существование и бытие мира исходя из вопроса "Кто говорит?"[13] в нашем языке, когда, мнится нам, мы начинаем говорить. Ницше одним из первых указывает на то, что пространство языкового выражения поглощает человека: "Так, путем длинным и неожиданным, приходим мы к тому самому месту, на которое указали Ницше и Малларме, когда один задал вопрос: "Кто говорит?" , а другой увидел, как ответ просвечивает в самом Слове. Вопрошание о том, что же такое язык в его бытии, возобновляется здесь во всей его настоятельности"[14]. Таким образом, филология обнажает и ставит под угрозу то, что позволило человеку быть познаваемым; внимая слову, пытаясь понять, что же ("кто же") говорит во всем, что говорится, филология выявляет историчность современной фигуры человека, временность настоящей его формы, сложившейся в глубоких недрах языка. Признавая, вслед за Ницше, что "человек" — нынешняя конфигурация человеческого образа — находится на пути к гибели, тем более очевидной, чем ярче разгорается на горизонте современности самодовлеющее бытие языка[15], Делёз и Фуко пристально вглядываются как в то, чем (кем) же может быть человек, ускользающий от "диктатуры языка", так и в грядущий человеческий облик, вбирающий в себя новые языковые формы, отягощенный полнокровным бытием языка [16]. Возможности выражения этих двух составляющих современного опыта философы ищут в современной литературе, крайних ее формах.
В этом отношении весьма характерно внимание, с которым оба мыслителя отнеслись к неизданным фрагментам текстов Ницше[17]. Когда писатель или философ пишет последовательный, целенаправленный текст, искомое окончание которого задает известную его связность (роман, трактат), черновые заметки к этому тексту, сколь бы интересными и важными они ни казались, играют лишь вспомогательную роль: будучи опубликованы, они могут осветить происхождение оригинала, бросить свет на его исток или перипетии формирования смыслового единства окончательной редакции, но не ставят под сомнение ее достоверность, закрепленную, ко всему прочему, авторской волей. Несколько иначе дело обстоит тогда, когда речь идет об изначально фрагментарном письме, когда философ решает мыслить не категориями, но афоризмами, когда книга в сознании философа предстает не всеобъемлющей "суммой", не "зеркалом мира", но своего рода затейливым калейдоскопом, прихотливо собранной мозаикой, меняющей смысловой рисунок при всякой перемене угла зрения. В этом случае фрагменты, не вошедшие в книгу, мало чем отличаются от тех, что увидели свет: их публикация не то чтобы добавляет что-то ранее неизвестное к смысловому генезису произведения, она, скорее, неизвестность превращает в его начало, которое, утрачивая всякое подобие единства, единичности, обретает исходное и искомое многообразие. Книга афоризмов ищет многообразия смыслов, многоголосия, в противном случае афоризмы неотличимы от догматизма, монологизма[18]. В окружении неопубликованных фрагментов каждый афоризм становится своего рода смысловой вселенной; во взаимных отражениях, повторениях, дополнениях, противоречиях, отличениях афоризмы говорят словно бы то же самое, вместе с тем — все время что-то другое; несмотря на то, что они порой неотличимы один от другого, почти тождественны, афоризм опубликованный и неопубликованный утверждают ценность отличия, поскольку тот и другой предстают как различные события в одном и том же движении становления, захватывающем как мысль, так и мыслителя.
Афористичное письмо Ницше, стало быть, идет из сердца его мировоззрения. Средоточие ницшевского опыта — проблема становления и вечного возвращения, проблема другого и того же самого. Становление — царство другого, все время все становится другим. Но идея Ницше сложнее мысли о едино-направленном движении мира к какому бы то ни было концу, как сложнее она идеи о кругообразном, циклическом развитии бытия: другим становится то же самое, становление совпадает с Вечным возвращением. "Продумаем эту мысль в самой страшной ее форме — жизнь, как она есть, без смысла, без цели, но возвращающаяся неизбежно, без заключительного "ничто" — "вечный возврат"19. Но если становление сходится с вечным возвращением, то это вовсе не значит, что возвращается то же самое, что все к тому же самому и возвращается. Возвращается, как на том настаивает Жиль Делёз, не то же самое, но только отличное, утверждающая воля стать другим. Вечное возвращение в такой перспективе есть не что иное, как могущество начать сначала, возвращение того, что способно к отличию.
В последнем Ницше сильнее говорит философ-политик, нежели философ-филолог. Им владеет идея о том, что философия не будет более ни спекулятивным умозрением, ни теорией какой-то практики. Философия призвана править миром, она должна быть политикой, "большой политикой"[21]. Политическая активность мысли сообразна с актуальностью, которая, как мы помним, соответствует несвоевременности. Несвоевременность мыслителя измеряется силой, коей он действует наперекор прошлому и настоящему — ввиду того, что грядет, что становится. Но отвергать настоящее — не значит отвергать себя; необходимо различать в себе долю настоящего и долю актуального. "Актуальное, — писал Делёз в одной из последних своих книг, — это не то, что мы есть, это, скорее, то, чем мы становимся, стало быть, Другое, наше становление-другим. Настоящее, напротив, это то, чем мы перестаем быть"[22]. Философское кредо мыслителя, таким образом, можно было бы, наверное, выразить парадоксальным перетолкованием cogito: вместо "я мыслю, следовательно, я есмь" приходит "я мыслю, следовательно, перестаю быть, становлюсь другим". Итак, философ, как его понимает Делёз, никогда не существует — он становится "собой" через постоянное и постоянно изменчивое отношение с "другим". Намечая первую сводку различных фигур Ницше в философии Делёза, подчеркнем именно это постоянство отношения: Ницше все время был для Делёза тем "другим", через которого философ становится — не столько "собой", сколько другим, философом другого.
Вам будет интересно - Реферат: Преподавание социологической теории в Санкт-Петербургском государственном университете
Более того, различные фигуры Ницше — как биографические, так и собственно философские — составляют своего рода силовое поле делёзовской мысли или, если воспользоваться оригинальным концептом французского мыслителя, они отражают абстрактный "план имманентности" философского опыта. В этом плане Ницше, равно как и образы его творчества, например, Заратустра или Ариадна[23], представляют собой нечто вроде "концептуальных персонажей", играя которыми философ изобретает собственную философию. Концептуальный персонаж не представляет ни философа, ни его философию, напротив, философ есть не что иное, как внешняя оболочка придуманных им концептуальных персонажей, которые, по существу, суть движущие силы его мысли. Но чтобы раскрыть "тайну" концептуальных персонажей с именем Ницше, нам необходимо чуть глубже погрузиться в толкование ницшевской философии Жилем Делёзом.
Согласно представлению Делёза, ключевым понятием философии Ницше выступает концепт "силы", связанный с проблематикой смысла и ценности. Этот концепт — что-то вроде философского молота, ударами которого Ницше крушит, с одной стороны, традиционную концепцию "сущности", с другой — само понятие "истины" в философии. Ницше философствует молотом — играет "силами", которые открывает в истории идей, когда вместо вопроса "что?" (что есть истина?) ставит вопрос "кто?" ("кто говорит?"; "кто, кроме меня, знает, кто такая Ариадна?"); в то же время драматизирует идеи, представляя их на различных уровнях умственно-психического напряжения.
В книге "Ницше и философия" французский мыслитель извлекает на свет весьма необычное отношение, которое отец "Заратустры" устанавливает между силами и смыслами. Силы исполнены смыслами, сила — носитель смысла, логика смысла есть не что иное, как логика силы. Новизна этого отношения определяется тем, что обыкновенно сила связывается с бессмыслием, грубостью, неотесанностью[24]. Долгое время сила казалась противоположностью смысла, как насилие — противоположностью разума, логоса.
Но ницшевский концепт указывает на необходимость различения "силы" и "насилия". Если насилие направляется в основном на форму силы, на способ ее организации, на тело, то собственно сила не затрагивает ничего, кроме другой силы; в то время как насилие разрушает, сила созидает, поскольку просто-напросто мерится силой с другой силой, то есть сравнивает, сопоставляет себя с другим в отношении могущества, способности творить. Это могущество, эту покоряющую силу творчества Ницше и называет "властью", обозначая таким образом "первопринцип" жизни.
Сила в понимании автора "Воли к власти" (речь не о книге, но о концепте) не есть стремление "быть самым сильным", не есть вожделение господства над другим, не есть желание властвовать над слабым; сила, в понимании Ницше, есть чистая власть — та, что не ограничивает себя какими-то отдельными, частными желаниями; власть — желание абсолютное, составляющее пафос всякой власти. Проблема в том, что отдельные формы власти предают забвению этот пафос, затемняют его частными, произвольными идеями (национализм, социализм и т. п.). Нацистская интерпретация Ницше, говорит Делёз вслед за Ж. Батаем, писавшим об этом еще в 30-е годы, — аберрация недалеких умов, которым не достало широты взгляда на понимание власти.
Похожий материал - Реферат: Постиндустриализм и виртуализация экономики
Итак, власть — как воля к власти — не то чтобы волит какой-то частной власти, она просто волит, хочет властвовать без каких бы то ни было ограничений, без каких бы то ни было условий.
Но самое главное в том, что власть — как сила жизни — хочет бесконечности, следовательно, идея победы, торжества, так или иначе приостанавливающих движение жизни, остается ей чуждой; тем более, не приемлет эта сила возможности подчинения другого или его унижения. Победитель волей-неволей прерывает развертывание воли к власти: добиваясь признания, торжествуя победу, он превращается в "господина", устанавливает "власть" собственных ценностей. По Делёзу, философия Ницше опровергает гегелевскую диалектику "господина" и "раба", в которой движущими силами мысли и истории выступают отрицание, негативность, нигилизм, смертельная борьба за "господство".
"Господин" устанавливает господство ценностей, им созданных; "раб" вынужден их принимать: хочет ли он сохранить господские ценности, хочет ли их ниспровергнуть или уничтожить, все равно "раб" направляет свою силу на уже созданное. В последнем случае сила эго преобразуется в насилие, поскольку обрушивается на формы, на способы организации настоящих ценностей. И в том, и в другом случае "раб" только реагирует на жизнь — реакция составляет существо рабского бытия. Вместо того, чтобы быть активным, вместо того, чтобы творить самому, "раб" сводит свое существование к производным, вторичным, болезненным формам жизни. Именно в этом смысле следует понимать ницшевскую идею о том, что в истории торжествуют силы "реактивные", а не "активные", люди "слабые", а не "сильные" , "больные", а не "здоровые": "Случается, что больной говорит: о, если бы я был здоров, я сделал бы то-то и то-то — он, возможно, это и сделает — но планы его, понятия его все равно остаются планами и понятиями больного человека — всего лишь больного. Так же дело обстоит и с рабом, с его представлениями о господстве и власти"[25]. В этом смысле следует понимать и одно из самых парадоксальных высказываний Ницше: "Как это ни странно звучит, всегда должно сильных защищать от слабых. Гегель ставит во главу исторического развития "раба": под гнетом "господина" тот либо безропотно несет бремя установленных ценностей, либо, затаивая злобу, предавая себя "злопамятству", ищет подходящего случая выместить свою злобу, сместить "господина", встать на его место. Так и выходит, что история движется силой злобы, болезни, отрицания.
Вместо непреложной точки зрения "раба", основанной на силе вторичной, на болезненном "злопамятстве и страсти отрицания, вместо смертельной схватки "раба" и "господина", непримиримого дуализма взаимоуничтожения, Ницше предлагает следовать принципу активного самоутверждения жизни, подвижной, изменчивой, пластичной перспективе созидания многообразного, воле к вечному возвращению, могущей начать с начала всякий раз, когда, как кажется, победа уже достигнута.